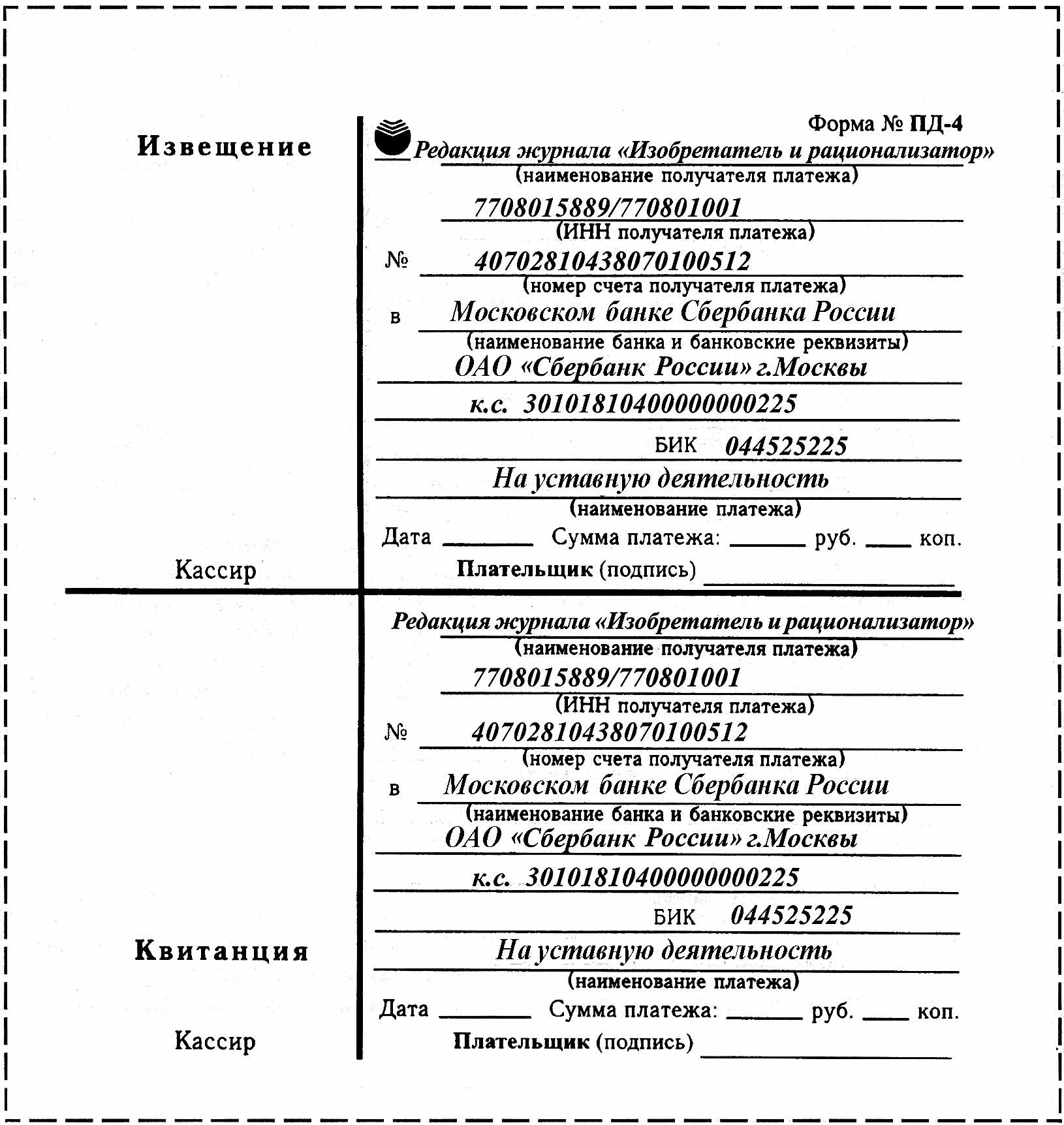СВЕЖИЙ НОМЕР
Новости ИР
- ЕВРАЗ разработал инновационное железнодорожное колесо с низконапряженной конструкцией диска
- НПО «Станкостроение» наладит серийное производство фрезерных станков для предприятий авиа-, двигателестроения и ОПК
- Ростех внедряет технологии дополненной реальности при сборке авиадвигателей
- Удобрения с биокомпонентами позволят снизить агрохимическую нагрузку на почву
- «Металлоинвест» перевёл дробильно-сортировочную фабрику Михайловского ГОКа на замкнутый цикл водоснабжения
Наши лауреаты
- ПОТОМОК ЭРЕХТЕЯ Продолжение. Начало в ИР, 2—3.
ГЛАВА 5
Как стать Пенелопой
Очнулся я лежащим на земле. Левая рука судорожно сжимала машинку времени. Голова гудела. Вокруг все плыло. Вытащив браслет, я натянул его на ногу. Ноги были исколоты и исцарапаны. Не без труда мне удалось встать и оглядеться. Несомненно, это был тот же пустырь на скрещении Мартыновского и Пестовского переулков, откуда стартовал в неизвестность мой инопланетянин. Очевидно, они прозондировали во времени эту часть пространства и убедились в ее стабильности.
Была теплая летняя ночь. Слева, за забором светил редкими огнями Татьянин дом. Похоже, было уже далеко за полночь. Работает ли метро? А потом, как я сунусь туда в таком виде? Надо же было так набраться. Где-то краешком отравленного алкоголем сознания я ощущал несоответствие своего состояния исходному — до переноса во времени. И пьян я был больше, чем следовало бы, и рука ныла сильнее. Опять саднил бок, почти так же, как и свежая рана на щеке.
Может быть, это какой-нибудь побочный эффект?
С трудом я преодолел пролом в заборе и пересек переулок. Ноги несли меня сами к знакомому подъезду. Несчастные десять метров по тротуару я одолел по кратчайшему для меня пути — синусоиде, шатаясь от стенки до бровки.
Мне повезло — на мой звонок открыла Татьяна. Кажется, от удивления у нее пропал дар речи.
— Ну ты даешь, — наконец вымолвила она. Приложив палец к губам, она впустила меня, заперла дверь и повела через коридор и кухню в ванную комнату.
Я взглянул на себя в зеркало. Да, видок еще тот! Из облупившегося по краям прямоугольного пространства амальгамы на меня глядел пьяный тип, голый по пояс, с кровоточащим боком и щекой, которой только что протащили по асфальту.
Молча и споро Татьяна помогла мне умыться и промыть раны перекисью водорода. После того как я вымыл ноги, она провела меня в свою комнатку, где на полу между пианино и диванчиком была сооружена для меня импровизированная постель. Не ожидая особого приглашения, я рухнул на нее и погрузился в состояние больше всего напоминающее кружение в воронке Мальстрема, которое незаметно перешло в ничто.
Разбужен я был ранним, солнечным утром. Из распахнутого окна тянуло холодком. Чирикали воробьи. По радио транслировалась программа утренней гимнастики.
— Вставай, алкаш! Вот, примерь сандалии, которые сосед собрался выбрасывать, и быстро умываться! Мне некогда с тобой возиться — на работу пора.
Нет ничего лучше после этого дела, как сунуть голову под ледяную струю воды так, чтобы она, упираясь в затылок, скатывалась по вискам, пока в них не заломит от холода.
— Ну ты хорош! — сказала Татьяна, когда мы уже сидели за кофе со сливками и бутербродами с сыром.
— Два с половиной месяца пропадал где-то и наконец появился. И как появился!
В глазах Татьяны искорки смеха, смешанные с любопытством и, похоже, с легкой тревогой.
— Видишь ли, Татьяна, жизнь полна неожиданностей, и в любой момент можно схлопотать приключения на свою... короче, на то место, где спина теряет свое изящное название, как говорил один мой знакомый. Во всяком случае, прости меня за столь малоэстетическое вторжение.
— Да ладно уж! Потом расскажешь, босяк.
Мы вышли вместе и в метро разошлись — она по Кольцу, а я на Киевскую.
В моей берлоге все было, как и раньше. С работы меня уволили. Я получил расчет и трудовую книжку, в которой красовался шедевр бюрократической подлости: «Уволен как самовольно оставивший работу после подачи заявления об увольнении по собственному желанию».
Как мне сказали в юридической консультации, на такую нестандартную запись отдел кадров не имел никакого права, но, будучи занесенной в книжку, она становится неуничтожимой, и конечно же, может сыграть отрицательную роль при моем поступлении на новую работу. Только когда это теперь еще будет?
Недели две я зализывал свои раны, занимался греческим и перезванивался с Татьяной.
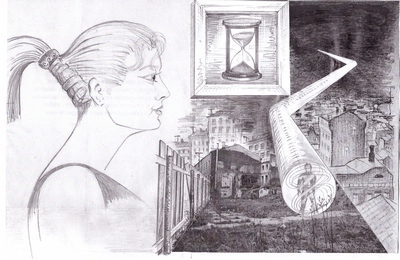 Время. Что такое время? С философских позиций время — это категория, которой нельзя дать определения. Время относительно. Абсолютна лишь скорость света. По Козыреву время — это то, что отделяет причину от следствия. Обратимо ли время? Можно ли вернуться в прошлое? Наверное, можно, если это прошлое существует где-то. Значит, машина времени возможна тогда, когда настоящее и прошлое равновероятны. Если бы в пространстве существовали на каком-то удалении прошлое и настоящее, то вполне возможно было бы перемещаться из одного в другое, например, со скоростью света или чуть меньшей. А сами события были бы как бы размазаны по пространству. Тогда скачки во времени представляли бы собой быстрые перемещения по вектору события.
Время. Что такое время? С философских позиций время — это категория, которой нельзя дать определения. Время относительно. Абсолютна лишь скорость света. По Козыреву время — это то, что отделяет причину от следствия. Обратимо ли время? Можно ли вернуться в прошлое? Наверное, можно, если это прошлое существует где-то. Значит, машина времени возможна тогда, когда настоящее и прошлое равновероятны. Если бы в пространстве существовали на каком-то удалении прошлое и настоящее, то вполне возможно было бы перемещаться из одного в другое, например, со скоростью света или чуть меньшей. А сами события были бы как бы размазаны по пространству. Тогда скачки во времени представляли бы собой быстрые перемещения по вектору события.Мне стало жарко от внезапно прорезавшейся смутной догадки.
Электрон! Вот, что все это мне напоминает. Пусть вращение электрона будет сущностью его бытия во времени, а его положения на орбите — его прошлым, настоящим и будущим. Все эти положения равновероятны. Существование электрона размазано по электронному облаку вокруг атомного ядра. А что наш Макромир? Земля! Солнце!
Я вдруг представил себе путь Земли в пространстве в виде трассирующих линий всех материальных частиц, имеющихся на Земле, и получил чудовищно переплетенный, бесконечно протяженный в пространстве гигантский многожильный жгут, который, изгибаясь вокруг движущегося Солнца, винтовой линией ложится петлями вокруг центра Галактики.
Может, и наше существование размазано по Вселенной, как электронное облако? Тогда все возможно. Даже машина времени.
Еще я представил себе, как некто с пристальным взором, с расстоянием между зрачками несколько миллионов световых лет взирает на крошечные вихри галактик, где бешено крутятся равновероятные наши прошлое и настоящее.
Случись пожар, чтобы вы стали первым выносить из дома? Задумывались ли вы когда-нибудь над этим? А мне приходилось. Крушение семейного ковчега в океане времени — это тот же пожар. Не знаешь, за что хвататься.
Теперь у меня была уже отработанная система. Под шкафом пылился небольшой кожаный чемоданчик на молнии, с которым я когда-то ходил в бассейн и которым перестал пользоваться, после того как в нем разбился термос с кофе. Там теперь хранились мои документы, письма, старые записные книжки и железная коробка из-под кинопленки с фотонегативами. Я затолкал туда папку с материалами по махолету и еле затянул молнию.
— Вот и все. Скоро я сюда не вернусь... Если двое суток в прошлом стоили мне больше двух месяцев настоящего, то... Скорее всего, вообще не вернусь, ибо это будет бессмысленно. Вот только книги жалко.
Около рынка я поймал такси и попросил подать задком к моему подъезду. Вернувшись в комнату, я вскочил ногами на стол и поочередно аккуратно снял обе книжные полки со всем содержимым, не трогая ни стекол, ни сушеных морских звезд с ракушками. Затем я поставил их на заднее сиденье машины стеклами вверх и сказал шоферу, чтоб гнал на Таганку. Татьяне я предварительно позвонил.
— Ты меня не перестаешь удивлять, — сказала она, увидев меня с чемоданчиком в руке и полками, стоящими на заплеванном полу лестничной площадки. — Что все это значит?
— А это значит, что я прошу пристроить вот это мое барахлишко у тебя на неопределенный период.
— Что же так негусто?
— Можно было бы и без этого. Да вот дорого как память, — промямлил я, втаскивая полки в прихожую
— Но почему так вдруг, сразу?
— Видишь ли, Татьяна, теперь у меня есть привязка по времени, и я хотел бы все-таки отыскать Дедала. Хочу сделать еще один заход в прошлое, если, конечно, машинка сработает.
Татьяна молча смотрела на меня. В ее глазах я заметил признак не знакомой мне веселой злости.
— Зачем обставлять все так загадочно? Если ты собрался переехать ко мне, то мог бы со мной хотя бы посоветоваться. Неужели ты думаешь, что я поверила во всю эту чушь. И вообще, сколько можно находиться в состоянии розыгрыша? Или ты такой же ненормальный, как Александр, с которым я тебя тогда познакомила?
Я стоял с открытым ртом, не зная, что ответить.
— Ну что же, в какой-то степени все это даже облегчает дело. Ладно, Татьяна, ты мне не веришь. Я это понял. Тогда успокойся и проводи меня немного. Мне самому теперь уже не верится, что все это было и может повториться.
Мы вышли с ней на такой знакомый мне пустырь, и я вынул коробочку. Набрав подготовленную заранее комбинацию цифр, я натянул машинку на запястье.
— Татьяна, сейчас я попробую, только ты не пугайся — тебе это ничем не грозит. Если ничего не будет, значит, розыгрыши кончились. Если же я исчезну, тогда наберись терпения и постарайся побыть некоторое время Пенелопой.
Пятясь задом, я отошел шагов на двадцать и утопил стартовую клавишу.
На меня обрушился вал соленой теплой воды. Я барахтался на поверхности метрах в ста от берега. Детали не просматривались, так как все скрывала плотная завеса дождя. Вдали справа смутно угадывался лес мачт, выступающий далеко в море. Скорее всего, это была корабельная стоянка близ Кносса. Такая погода была мне на руку. Никем не замеченный, я выбрался из прибоя на дикий пляж и, минуя стоянку, направился прочь от берега.
Светлый храм Зевсу — творение Дедала — я увидел даже сквозь струи дождя.
ГЛАВА 6
Тропой световых колодцев
Умение достойно проявить себя
в своем природном существе
есть признак совершенства
и качество, почти божественное.
Монтень
Песка под ногами оказалось на удивление мало. Под ними было твердое основание арены. Бегу песок не мешал, он даже увеличивал сцепление подошвы с грунтом. Но бежать было некуда. Незамеченный мною «доброжелатель», выпихнувший меня сюда, прикрыл за моей спиной дверцу, так что не осталось даже намека на ее присутствие. Стена, окружавшая арену, вдвое превышала человеческий рост — не перепрыгнуть. Выше стены вверх шли кольца пустых сидений амфитеатра, а над ними небольшой козырек крыши, поддерживаемый рядом черно-красных конических колонн.
Желтое небо равнодушно смотрело в эту круглую большую дыру. Песок был чистым. Пока. Его, наверное, каждый раз меняли, когда здесь проливалась кровь. Цвет моей крови так и не порадует никого из тех, кто заказывал оформление окружающего интерьера, из тех, у кого красный цвет весьма популярен и кто должен был сидеть наверху. В последнем сомневаться не приходилось, так как в диаметрально противоположной от меня точке арены находился гигантский черный бык. Он весь лоснился, как хорошо смазанный локомотив, и уже разводил пары, заметив меня.
Знал ли я, что такое коррида? Да, к сожалению, знал. С детства. Пластинка с куплетами тореадора из оперы «Кармен» и неизменным тогда патефоном сопровождала нас в эвакуацию. Вернувшись в послевоенную Москву, я стал счастливым обладателем трофейного 16-миллиметрового кинопроектора фирмы «Сименс» и нескольких лент. Среди одноклассников нашелся еще один такой же счастливчик, с которым мы обменивались фильмами. Больше всех нам нравилась документальная лента «Бой быков в Барселоне».
Очень живо перед моими глазами возникли кадры с простыни на стене из этого далекого прошлого. Конь пикадора с распоротым брюхом и темная груда кишок на песке — фильм-то был черно-белый.
Сейчас же мысль моя металась как птичка в клетке, куда кошка засунула лапу. Конь пикадора маячил перед глазами.
Стоп! Конь! Конь и еще раз конь. Гимнастический конь, который без ручек! Я вспомнил его высокие деревянные ноги и длинное гладкое кожаное тело. Решение пришло мгновенно. Другого опыта у меня не было, и когда бык ринулся на меня, я уже разбегался ему навстречу. Это был очень долгий разбег. Каждый толчок ноги врезался мне в мозг, как и каждое движение быка, за которым я напряженно следил.
Наверное, с сидений амфитеатра это выглядело бы неплохо. Когда посреди арены бык опустил голову, чтобы поддеть меня рогами, я изо всех сил прыгнул вверх и вперед, как на гимнастических соревнованиях, и, сделав классическую «скорочку», пролетел над ним. В мое время «скорочкой» на жаргоне гимнастов назывался опорный прыжок, при котором ноги в согнутом положении вместе проходят над опорой между руками. Приземлился я не очень удачно, но без травм. Вскочив на ноги, я бросился вперед к противоположной стенке. Когда я, прижавшись к ней спиной, с бешено колотящимся сердцем наблюдал за разворачивающимся быком, стенка за моей спиной вдруг подалась и кто-то втащил меня в темный коридор, внезапно отделивший меня от яркой и страшной арены.
Маленькая горячая рука настойчиво тащила меня по темным переходам и лестницам, и я послушно следовал за своей спасительницей. Сомневаться в этом не приходилось, так как тонкий аромат благовоний подтверждал мои хиромантические прогнозы. Когда, по моему мнению, мы удалились от «катакомб», окружавших арену, и в проходе забрезжил слабый рассеянный свет, я с удивлением узнал одну из молодых девушек, а может быть, и женщин, которые часто приходили посмотреть, иногда со спутниками, как из ничего возникают красочные настенные росписи. Дедал терпимо относился к этим визитам золотой молодежи и не делал секретов из нашего ремесла. Тем более что кроме восхищения никакой другой реакции и не было, а это всегда приятно.
Женщины во дворце, как и на всем острове, пользовались удивительной свободой. Им позволялось все. Туалеты их напоминали наряды предельно декольтированных дам французского двора времен Людовиков, только еще фривольнее. Ведь у язычников не было понятия греха, связанного с обнаженным телом. Все это пришло к нам значительно позже вместе с христианством. Яркие, длинные, с рукавами по локоть колоколообразные платья, оставляющие груди полностью обнаженными, были нормой. Поначалу привыкнуть ко всему этому было весьма трудно.
Наконец мы остановились на залитой солнцем лестничной площадке, показавшейся мне знакомой.
— Я не знала, художник, что у тебя есть враги, — сказала женщина, подняв на меня подведенные краской и без того красивые глаза. Я молчал, а ее упругая высокая грудь часто вздымалась в опасной близости от моего обнаженного торса.
— Мне бы не хотелось, чтобы Мастер лишился одного из своих лучших помощников, — лукаво произнесла она, улыбнувшись.
— Кому мне испрашивать милости у богов, моя спасительница? — спросил я, целуя ее руки.
— Меня зовут Эос. Мы еще увидимся с тобой, художник. Пусть хранят тебя боги. — Она подобрала подол платья и застучала по лестнице сандалиями.
…Вот уже седьмой месяц, как я нахожусь в кносском дворце. Работы по его отделке уже давным-давно закончены, но всегда находятся пустые стены в отдаленных помещениях Лабиринта, уходящих вглубь недр холма, которые также требуют росписи. Когда я ступил на землю Кносса, я почти ничего не увидел — город прятался за завесой дождя. Укрывшись в беломраморном храме Зевсу, возведенном в знакомом греческом стиле недалеко от берега, я слился с пестрой и разномастной толпой полунищих и полукалек, а вернее, бездельников, которые кормились при храме. В богатом Кноссе жертвы Зевсу в сотню быков — гекатомбы — не были редкостью, и голод мне не грозил. Обмотав рубашкой чресла и приспособив свои стертые джинсы — так в Москве стали называть тексасы — как повязку для якобы больной руки, я голый по пояс проводил дни на ступенях храма. Я не рвался на экскурсию по городу. Всему свое время. Я смотрел и слушал. Общался с коллегами-тунеядцами, сидевшими на плитах рядом. Перенимал их фразы, жесты, мимику. Пытался не высовываться, чему нас все время и учили, хотя я был, как видно, не совсем послушным учеником.
Жизнь города бурлила вокруг. Кносс оказался многолюдным, многоязычным, пестрым и жизнерадостным торговым городом с явными признаками твердой власти, которая, однако, воспринималась не как бремя, а скорее как благо. Но тем не менее так и хотелось сказать про окружающее: «Я — римский мир периода упадка». Так однажды, еще в московской жизни, представилась мне одна особа, которая все это очень тонко чувствовала. Я не мог внятно объяснить, в чем было это ощущение упадка. Может быть, в чрезмерной роскоши и изобилии вокруг, которые рано или поздно потребуют рабского труда, чтобы сохранить все на прежнем уровне, а может быть, в какой-то манерной изнеженности менее прекрасной половины населения. Черт его знает, но ощущение такое было.
Напротив храма Зевсу, в двух стадиях от него, возвышался храм Аполлону Эпибатерию, то есть Мореходному. Между ними постоянно кипела шумная агора, среди говоров которой преобладал ахейский. Площадь пересекалась мощеной дорогой, спускавшейся к берегу и переходившей в каменный пирс, уходящий на пару стадий в море. К нему, как поросята к матке, с двух сторон под прямым углом приткнулись корабли, спрятав свои тараны, или, как их здесь называли, бивни между сваями. Корабельная стоянка называлась Амнисий.
Через неделю я уже привык к шарканью и стуку подошв о ступени храма, к постоянному шуму агоры и грохоту колесниц, не знавших, что такое рессоры. Пора было искать паблисити. Для этого, как известно, есть много путей, вплоть до скандальных.
Для начала я, освободив правую руку от перевязи, вооружился углями из жертвенника и стал набрасывать на мраморной плите сценки из мифической жизни Зевса на Крите. По одной сценке в день. Что-то в стиле комиксов. Сначала я нарисовал Крона, отца Зевса, пожирающего своих детей, и рыдающую Рею. На второй день я изобразил тайное рождение Зевса в горной пещере. Постепенно около меня стали собираться зрители, которые интересовались, конечно, не столько мной, сколько тем, что я делаю. Третий день я работал над сценой обмана Реей мужа, когда она скармливает Крону булыжник в пеленках вместо новорожденного. Публика сопела за моей спиной, а я, не торопясь, размазывал по мрамору уголь, оттеняя мешки под хитрыми глазами измученной роженицы. Затем последовала сцена вскармливания Зевса нимфами в пещере на горе Иде молоком козы Амалфеи. Труднее всего, естественно, мне далась коза. Потом была сцена беснования юношей-куретов с оружием у входа в пещеру, дабы заглушить плач младенца Зевса. Когда я рисовал последний эпизод схватки Зевса с Кроном, я уже смело мог считать себя одной из достопримечательностей агоры, ибо понял, что завсегдатаями этого уголка города я принят.
Теперь требовался следующий шаг, который заставил бы заинтересоваться мной людей из высших сфер, куда мне необходимо было проникнуть.
Рисовать я никогда и нигде не учился. В послевоенную Строгановку меня, тогда еще мальчишку, не взяли, так как у матери не нашлось денег на взятку. Но коллеги по работе ценили мои выпиравшие способности и нещадно их эксплуатировали. Мне приходилось рисовать все — стенные газеты и объявления, адреса юбилярам и плакаты в министерство, эскизы пригласительных билетов, медалей и памятных значков различных конференций. У меня неплохо получались карандашные шаржи. Практиковал я и рисовальные дуэли, когда побеждал тот из противников, у кого портрет соперника был достовернее, а времени на него уходило меньше.
И вот как-то утром я взял угли и стал рисовать шарж на своего соседа по храмовой лестнице с весьма характерной носатой физиономией. Рисунок вроде бы удался, и реакция на него была более живой, чем на мифическую серию. После нескольких подобных проб я рискнул однажды и попросил позировать мне симпатичную женщину в дорогих украшениях, которую уже видел как-то за своей спиной. Удача мне улыбнулась — она согласилась. Кто-то даже принес складное сиденье для моей модели.
Я работал спокойно и уверенно. Получалось совсем неплохо. Когда на плите изображение стало уже узнаваемым, на мое плечо твердо легла тяжелая ладонь. Обернувшись, я увидел воина с копьем. Жестом он пригласил меня следовать за ним. Я подхватил джинсы, на которых сидел, и послушно поднялся. Честно говоря, чего-то такого я и ждал. Мы подошли к стоящему в стороне богато одетому молодому человеку с тонкими чертами лица. На медной пряжке его пояса, перехватывающего изящную талию, я разглядел эмблему в виде двулезвийной секиры — лабриса.
— Пойдешь с нами во дворец, — сказал он по-ахейски, дружелюбно и в то же время внимательно разглядывая меня. — Тебя хочет видеть Мастер.
«Ну, началось», — подумал я и утвердительно кивнул ему.
Наше трио вышло на дорогу или скорее улицу, поднимавшуюся от пирса. Здесь стояла колесница с парой вороных. Улица поднималась полого вверх, а слева и справа от нее хаотично лепились в зелени деревьев и ярких цветах светлые террасы разноэтажных домов. После нескольких зигзагов и петель по городу, когда море осталось далеко позади, я с удивлением заметил, что городские строения в той стороне, куда мы направлялись, как-то странно и величественно выплескивались вверх, образуя некое подобие пирамиды. Только вместо гладких граней и резких ребер здесь имело место удивительное хитросплетение бесчисленных портиков с красными и белыми колоннадами, черных проемов, зубчатых выступающих стен, балконов и полосатых пятен лестничных маршей. Все это венчалось стилизованным скульптурным изображением пары бычьих рогов, которое чем-то напоминало модель математической поверхности, называемой седловиной. Рога ярко сверкали под южным солнцем явно металлическим блеском.
Наша колесница нырнула в эту урбанистическую волну и через несколько минут остановилась перед фасадом, вся стена которого была занята гигантским рельефом, изображавшим нападающего быка. Передо мной была черная щель входа, по сторонам которого стояли два атлета в рогатых шлемах с круглыми щитами и лабрисами в руках. Без всякого сомнения, это был Лабиринт.
Мы долго шли по причудливым темным переходам, то поднимаясь по лестницам, то опускаясь, минуя сложные системы комнат, внутренних двориков и залов, украшенных росписями, которые вспыхивали яркими красками, когда потолочные перекрытия пронзались световыми колодцами. Наконец мы остановились в зале, где еще шла роспись. В помещении был единственный человек с кистями в руках, спиной гимнаста и серебристым от седины затылком.
— Мастер, я привел художника, — обратился к нему мой сопровождающий.
Тот, кого назвали мастером, повернулся всем корпусом, положил кисти в высокий узкий сосуд и жестом отослал мою свиту.
Первое, что мне пришло в голову, — он похож на Зевса. Скульптурный портрет последнего, как водится, с глазами без зрачков засел в моей памяти со времен изучения школьной программы истории древнего мира. Классические черты лица. Короткая, слегка курчавая борода с сединой. Я знал, что ему за пятьдесят, но он не был стариком. Правда, в афинском ополчении мужчины должны были служить до шестидесяти лет. Он вполне этому соответствовал.
В отличие от скульптурного, этот Зевс с любопытством рассматривал меня темными живыми глазами. Но было в них что-то делавшее его Зевсом, которому Олимп надоел до чертиков.
— Ты взбаламутил всю агору, чужеземец. Говорят, что сами боги водят твоими руками, а они благосклонны далеко не ко всем.
Он протянул мне темную плитку с мелком и указал на складное сиденье:
— Покажи свое искусство. Нарисуй меня.
Сам он с такой же плиткой в руках сел напротив, метрах в трех.
— Хорошо, мастер, — ответил я и стал набрасывать его стилизованный портрет, время от времени поглядывая на натуру. Он делал то же самое, и взгляды наши иногда скрещивались. В его взглядах я не чувствовал эмоций — только холодный расчет углубленного в дело человека. Я для него был еще ничем и никем.
Минут через двадцать, значительно позже своего натурщика (а сделал я это умышленно), я закончил работу и почтительно протянул ему плитку с наброском.
— Молва не врала. Ты действительно можешь, чужеземец, — сказал он, пристально вглядываясь в рисунок. — Я здесь как в зеркале.
Взгляд его потеплел, и он молча показал мне свою плитку. На ее поверхности точными и скупыми штрихами был набросан мой портрет в фас. Сходство было несомненным, хотя достигнуто оно было удивительно малым количеством линий.
— О, Мастер! Разреши мне взять это изображение себе на память.
— Бери, — сказал он, подходя ко мне и кладя руки мне на плечи. — Но я хочу предложить тебе работу во дворце. Мне нужны такие люди, как ты.
— Я буду счастлив работать с тобой рядом, Мастер, — сказал я вполне искренне, глядя ему в глаза. — Мне нравится рисовать.
— Вот и отлично, — улыбнулся он. — Можешь звать меня просто Дедал. — А теперь скажи мне твое имя и поведай, кто ты и откуда.
В груди у меня звенели фанфары — все удавалось. Я уже сумел добиться многого. Я в Лабиринте, с Дедалом рядом! У меня было такое ощущение, как будто я наконец-то очутился дома после долгого пути. Не торопясь, в который уже раз я изложил свою легенду.
— Ну что же, Майкл! Ты свободен и молод, и твоя Гиперборея еще рада будет возвращению художника, умудренного опытом странствий. У тебя все еще впереди. — Он слегка обнял меня и добавил: — Пойдем, я покажу, где ты будешь жить.
Жизнь во дворце катилась по накатанному руслу. По крайней мере, той части его населения, которую можно было назвать творческой элитой. Впрочем, кипение светской жизни дворца проходило мимо нас, ибо сама его архитектура способствовала сокрытию событий и сохранению тайны. Лабиринт ограничивал кругозор. Здесь нельзя было высунуться из окна и увидеть, кто подъехал и кто уехал, хотя я знал, что есть специальная стоянка дежуривших постоянно легких колесниц для быстрой связи с любым из ста городов Крита по прекрасно проложенным дорогам.
Мы пользовались окружавшим нас великолепием как само собой разумеющимся, и сами своим трудом ежедневно преумножали это великолепие или хотя бы стремились к этому. Труд наш не был изнуряющим. Он был свободным и ни кем не контролировался, кроме Дедала. А Дедал был мерой всего. Мне казалось, что я вписался в его ближайшее окружение и занял в нем весьма достойное место. Что бы я делал со своими зачаточными способностями там, у себя, в двадцатом веке? Скорее всего, они так и остались бы невостребованными.
Обычно день начинался с утреннего купанья. Дедал брал легкую колесницу, и мы вдвоем или втроем, если к нам присоединялся Икар, скатывались до уютной бухточки, левее корабельной стоянки. После разминки на песочке мы устраивали полукилометровый заплывчик. Берег с моря здорово походил на крымский. Море было чистым, полным жизни и ни в какое сравнение не шло с Черным моего времени. Боже, сколько же я терял из-за отсутствия маски для ныряния!
После заплыва, пользуясь утренней прохладой, мы занимались гимнастикой и обменом информацией. Я понемногу стал учить своих новых друзей кролю, который для них был откровением, а также основам у-шу. Они, в свою очередь, делились со мной приемами борьбы и кулачного боя — панкратия.
После плотного завтрака, состоявшего чаще всего из жареной рыбы с белым вином, ячменного хлеба, сыра и маслин, мы шли заниматься росписями. Эскизы выполнялись углем и мелками в натуральную величину на грубых холстах, пропитанных рыбьим клеем с мукой, отчего они были твердыми, как картон. Законченный рисунок крупными фрагментами переносили на только что оштукатуренный под него участок стены. Острым деревянным стило наносили контур изображения и тут же расписывали его, пока штукатурка не затвердела. Роспись велась водяными красками, приготовленными на известковом молоке нашими подмастерьями.
Работали мы обычными щетинными кистями. Вся хитрость работы над фреской заключалась в дозированном нажиме кисти, чтобы не разбелить чрезмерно краску известкой штукатурки и не испортить саму оштукатуренную поверхность. Уровень исполнения фресок здорово разнился в зависимости от мастерства художника. Дедал давал возможность раскрыться каждому, но при этом общий стиль должен был оставаться неизменным — дань критским традициям, заимствованным, скорее всего, в Египте. На всех людских фигурах ступни ног изображались в плоскости рисунка, как бы ни было повернуто их тело. При этом лица также рисовались только в профиль с одним-единственным глазом, изображенным почему-то в фас.
Самую жаркую часть дня, называемую в двадцатом веке сиестой, мы проводили каждый у себя в прохладных покоях или выползали проветриться на поросшие шафраном луга к югу от дворца, уходящие до самых склонов холмов Юктас, где был древний некрополь и развалины столицы царя Астериона.
Как я отметил для себя, постоянное противостояние стихиям природы, чаще всего землетрясениям и последствиям вулканических извержений, стало стержнем всей религии, психологии и философии критян. Колебатель вод и земель Посейдон был для них ощутимой реальностью.
Вечером обычно собирались, кто хотел, в мегароне Дедала, где у огня за молодым вином и шашлыками складывалась весьма непринужденная и интересная обстановка. Дед — а я очень скоро стал так называть Дедала, объяснив, что у нас в Гиперборее так уважительно именуют старейшего в роду, — оказался очень способным рассказчиком. Меня же Дедал стал называть Майк — ему звук «л» почему-то казался лишним.
Практически Дед был лидером и душой общества, хотя и не стремился к этому. Здесь под треск поленьев, шипенье капель жира, падающих на раскаленные угли, и хохот разноплеменной богемы я вторично познакомился с байкой про муравья и нитку, рассказанную самим Дедалом.
Однажды на пиру в честь прибывшего на Крит царя Сицилии Кокала расхваставшийся размерами и сложностью Лабиринта Минос заявил, что непосвященный не сможет выбраться из Лабиринта за период времени от восхода до захода солнца, ибо это так же трудно, как продеть нитку сквозь раковину улитки, отломив ее острый конец. Миносу, разгоряченному вином, показалось, что он недостаточно красноречив, и по его приказу в пиршественную залу принесли поднос с грудой золотых кубков-киликов на тысячу талантов1 и блюдо с улитками. Золото предназначалось тому, кто к концу застолья решит предложенную задачу.
Дедалу, сидевшему недалеко от Кокала, пришла в голову идея с муравьем, и озорства ради он нацарапал решение в виде рисунка на глиняном сосуде и передал его Кокалу. Тот оценил шутку и включил в работу свою свиту. Улитка была выварена и вычищена. Муравей пойман и нитка привязана. Избавляясь от жара горящей лучины, муравей протащил нитку через раковину, и груда золота в конце пира перешла к Кокалу.
— Минос был огорчен как ребенок! — говорил Дед, пряча улыбку в усы. — Но я его пожалел и открылся. Когда он узнал, что решение принадлежит мне, он успокоился и оставил все как есть. В конце концов, Лабиринт ведь достраивал я, а не кто-нибудь другой. Зато после этого у меня установился контакт с Кокалом.
— Как это достраивал, Дед? — спрашиваю я удивленно.
— А так, что строить его начали еще те, кто покоится у холмов Юктас. Включая еще и цариц, имена которых уже не помнит никто. Каждый добавлял к Лабиринту что-то свое. Правда, надземная часть дворца почти вся принадлежит мне. Это мой замысел, моя работа.
Как-то утром, уже в бухточке, куда мы прикатили, как всегда, размяться, Дед вытащил из колесницы что-то завернутое в ткань и, улыбаясь, протянул мне.
— Захотелось плавать быстрее, Майк, — сказал он.
Я развернул ткань и увидел моноласту. Но не такую, как в мое время — длинную пластину из стеклопластика, приклепанную к сдвоенной резиновой калоше. Нет, это была моноласта высший класс — подобие дельфиньего хвоста, только чуть меньше, чем у дельфина. Выполнена она была из выделанной кожи, сшитой, очевидно, сухожилиями. Внутри был упругий каркас — скорее всего, из тонких костяных или роговых пластин. Это был своего рода шедевр. Кожа была смазана каким-то жиром, наверное, чтоб не усыхала.
— Ну, Дед, ты даешь! — только и сказал я, надевая в нетерпении моноласту себе на ноги и затягивая ременную шнуровку.
Нырнув, я сразу понял, что Дед сделал то, что надо. Колебания моих ног и корпуса тут же переходили в упругие махи лопастей хвоста, и меня стремительно несло вперед. Скоро у меня заболела от напряжения спина, и я выбрался на берег.
— Дед, ты просто Титан! — только и мог я сказать ему с восхищением.
Он сумел опередить даже мое время, в котором не смогли понять, что копировать природу надо умеючи. И уж если копировать, то не хвост карася, а по крайней мере дельфина или быстроходного тунца с лопастями большого удлинения, дающими соответствующее гидродинамическое качество. Млея на солнышке, я думал, что Дед не так прост и что помимо фресок и болтовни у очага у него наверняка есть свое хобби — моноласта тому подтверждение. Но ведь хвост дельфина — это тот же машущий движитель. Есть ли тут связь?
Вполне возможно, что идея полета давно уже завладела Дедалом. Надо его как-нибудь спровоцировать на откровенность. Однажды после заката в мегароне у Деда я попросил его рассказать о происхождении критян — грех не использовать его талант рассказчика и знания, тем более что для моего времени культура Крита — белое пятно.
— Отлично, Майк! Но ты отплатишь нам тем же, рассказав про свою Гиперборею, — сказал он, шевеля палкой в очаге. — Первый род людской боги создали счастливыми. Это был золотой век. Безболезненной и приятной была жизнь людей. Не зная ни забот, ни печалей, ни труда жили они как боги. Они имели при жизни все в изобилии. Земля сама давала им богатые плоды. Безмятежно жили люди золотого века. Сами боги приходили к ним советоваться. Но золотой век на Земле кончился, и никого не осталось из людей этого поколения. После смерти люди золотого века стали духами, покровителями людей новых поколений. Окутанные светлым туманом, носятся они по всей Земле, защищая правду и карая зло.
«Черт побери! — подумал я. — Ведь и меня слуги Трифона, наверное, приняли за такого духа, когда я в светящемся шаре исчез с их глаз на ночном берегу залива Фалерон».
— Люди второго века, серебряного, уже не были такими счастливыми. Сто лет росли они неразумными в домах своих матерей, и только возмужав, покидали их. Коротка их жизнь была в зрелом возрасте. Зевс уничтожил их род за неповиновение богам и поселил в подземном, сумрачном царстве. И создал Зевс людей третьего века — медного. Из древка копья создал Зевс людей — страшных и могучих. Любили люди медного века гордость и войну. Не знали они земледелия и не ели плодов земли, которые дают сады и пашни. Не знали они колеса, но умели строить корабли. Поклонялись они Посейдону и чтили кормильца Тельца. Зевс дал им громадный рост и несокрушимую силу. Оружие их выковано было из меди, медными орудиями работали они. Из гигантских камней складывали они дома. Жили они только войной. Надменные и нечестивые, прогневили они богов. Особенно прогневили они Гелиоса, который с высоты вынужден был ежедневно взирать на творимое ими зло. И приблизил он тогда к Земле свой бег и остановился в небе от возмущения. Обрушил он на Землю медных людей свои испепеляющие лучи. Загорелись горы, покрытые лесом, и вода в ручьях и реках вскипела, а дым заволок все кругом. От жара трескалась земля. Моря начали пересыхать. И взмолилась Гея-Земля: «О, Зевс-Громовержец! Неужели должна я погибнуть, неужели должно погибнуть царство твоего брата Посейдона, неужели должно погибнуть все живое? Атланты едва выдерживают тяжесть неба. Неужели все вернется в первобытный хаос?» Зевс услышал мольбу Геи, бросил свою сверкающую молнию и разбил колесницу Гелиоса. По всему небу пронеслись осколки колесницы и обрушились за Мелькартовыми Столбами на земли медных людей. В скорби и печали Гелиос скрыл свой лик и целый год не появлялся на небе. Чтобы загасить жар Земли, наслал Зевс на Землю сильнейший ливень. Вода в морях и реках поднималась все выше и выше. Скрылись под водой города со своими стенами, домами и храмами. Вода покрыла все — и поросшие лесом холмы, и высокие горы. Но не все медные люди погибли. Те, кто сел на свои корабли, разделились и поплыли на четыре сторо
Наши партнеры